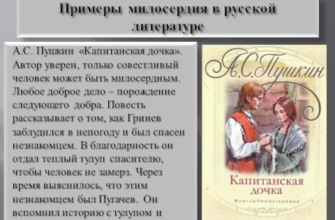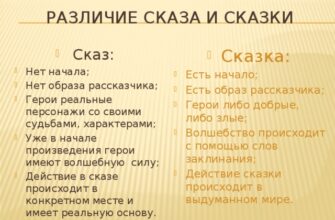Кавказские войны. Часть 2
Но вернемся к Грузии. В конце XVIII века Грузия оказалась в тяжелейшем положении. Царь Ираклий, несмотря на все свои воинские таланты, противостоять Ирану и Турции в одиночку не мог и стал настойчиво просить помощи у России. В 1783 году был заключен Георгиевский трактат (подписанный в укреплении Георгиевск) о протекторате России над Грузией. Речь еще не шла о включении Грузии в состав Российской империи; это был вассалитет: Грузия независимая, но Россия ее защищает. В Грузию было послано два батальона войск, что, конечно, абсолютно не решало никаких проблем, а только усугубило опасность для Грузии.
все свои воинские таланты, противостоять Ирану и Турции в одиночку не мог и стал настойчиво просить помощи у России. В 1783 году был заключен Георгиевский трактат (подписанный в укреплении Георгиевск) о протекторате России над Грузией. Речь еще не шла о включении Грузии в состав Российской империи; это был вассалитет: Грузия независимая, но Россия ее защищает. В Грузию было послано два батальона войск, что, конечно, абсолютно не решало никаких проблем, а только усугубило опасность для Грузии.
В 1795 году очень воинственный иранский шах пошел на Грузию, взял Тифлис, вырезал значительную часть населения. Тогда Ираклий стал просить, чтобы Россия включила Грузию в свой состав. Он, правда, вскоре после этого умер, но его сын Георгий XII настойчиво повторял эту просьбу. Вопрос стоял очень просто: или Грузия входит в состав Российской империи, которая защищает ее всей своей мощью, или единственное христианское государство в Закавказье (причем, условно говоря, даже православное, потому что грузинская и русская церковь близки; грузины и русские — братья по вере) будет ликвидировано. Тут сомнений никаких не было.
Павел I во время своего недолгого царствования в январе 1801 года успел подписать манифест о вхождении Грузии в состав России. Но вскоре Павла не стало, и проблема возникла вновь. Надо сказать, что молодой император Александр 1 очень долго колебался, прежде чем принял решение снизойти к мольбам грузинского царя. Это может показаться странным: собственно говоря, я предлагаю тебе целое царство, ну так и бери его на здоровье. Но Александр и его ближайшие советники очень хорошо понимали, что присоединение Грузии — это уже настоящая Кавказская война, а не эпизодические боевые столкновения, как было до того.
С одной стороны, речь шла о плодородных местностях в Предкавказье, которые были очень соблазнительны для русских помещиков, да и для крестьян. С другой стороны, включение Грузии в состав Российской империи означало неизбежную войну с Кавказом по двум причинам. Во-первых, нужны коммуникации: что это за часть империи, до которой не добраться? Все немногочисленные дороги (Военно-грузинская дорога), которые соединяли Грузию и Россию, шли, естественно, через Кавказ и были подвержены нападениям горцев. Следовательно, нужно было нечто, чтобы обезопасить коммуникации. Во- вторых, Грузия сама постоянно подвергалась горским набегам и нужно, стало быть, защищать ее не только от Ирана и Турции, но и от так называемого Общества джаробелоканских лезгин, живущих в двух больших селениях (Джара и Белоканы), для которых походы в Кахетию были очень важным экономическим фактором. Лезгины спускались раз в год в Кахетию, захватывали в плен тысячи людей и, очевидно, продавали их на турецких невольничьих рынках.